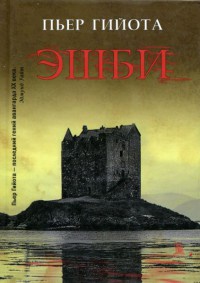Книга Я – дочь врага народа - Таисья Пьянкова
Шрифт:
Интервал:
Закладка:
У Лизы было одно прозвище, «зассыха» – появляется второе. Оно доходит до ушей Наума Давыдовича.
С математикой у Лизы были крепкие отношения. Наум, никогда не вызывавший её к доске, вдруг приглашает:
– Быстрикова, умная дурочка… Прошу…
– Стихи, говорят, пишешь? – спрашивает он и признаётся: – Я тоже балуюсь. Выходит, что мы с тобою – собратья по перу? Может, прочтёшь? Ну, нет так нет… А я, позволь, проверю себя на твоём поэтическом чутье:
Хохот, да такой, что уборщица Зинаида Лаврентьевна заглядывает в класс.
– Шут гороховый! – оценивает Лиза выходку преподавателя и идёт на своё место.
На класс обрушивается тишина. В ней слышно, как Наум отодвигает стул, поднимается и вдруг виновато соглашается:
– Права ты, Лиза! Прости – не подумал… Но, пойми, только юмор в этой жизни чего-то стоит!
Затем садится, вновь поднимается и дополняет:
– А ещё… поэзия…
И снова садится, и снова встаёт, чтобы с уважением предложить:
– Ты уж… позволь мне, Лизонька, пригласить тебя в выходной день в оперный театр.
У всех девчат – лица вытянуты, брови – на взлёт!
…Позже Пельдуска оглашает – поход, дескать, в оперный театр затеян не Наумом, а директором училища, как лечебная процедура от придури…
В девчатах, однако, так и не проясняется истина: как это Наумом Давыдовичем «стихушка и зассыха» поднята «умной дурочкой» выше их на целую ступень?
Производственный мастер имеет ненавистное для Лизы имя детдомовского воспитателя Цывика – Виктор Петрович. Она не желает у него заниматься.
Занятия девчат в слесарной мастерской начинаются с октября месяца, проходят по вторникам, четвергам и субботам. Образовательный этот минимум включает в себя забивание гвоздей, изготовление молотков и плоскогубцев…
Разглядывая заготовку будущего инструмента, Лиза спрашивает мастера:
– Зачем слесарю-сборщику уметь делать щипцы?
Её вопрос приводит мастера в некоторое замешательство.
– А затем, – поясняет ему сама Лиза, – что советский рабочий обязан уметь всё!
– Ве-ерно, – соглашается мастер и добавляет в её же тоне: – Но у тебя, Елизавета свет-Леонидовна, руки, похоже, не из того места растут…
– А спорим… – задирается свет-Леонидовна. – Если я вперёд всех сделаю вашу железяку, то вы мне покупаете билет в оперный.
– А спорим! – соглашается мастер.
Через неделю плоскогубцы у Лизы готовы!
Утром в понедельник вход в учебный корпус украшен плакатом: «Поздравляем ученицу группы СБ-9 – Быстрикову Лизу с производственным успехом!»
Но – увы мастеру! Лиза не тщеславна. Учиться у Цывикова тёзки она так и не желает. И объясняться не намерена.
А вот билет, им проигранный, берёт и, с разрешения директора училища, слушает в оперном театре дневной показ «Морозко».
Следующие два месяца отпущены группе для освоения токарного минимума.
Тут Лиза не в силах досаждать мастеру.
Когда тебе подчиняется «живой» станок, когда под твоей рукою чуть повизгивает от удовольствия металл, когда верно изготовленная деталь глядит и улыбается тебе блестящим отсветом… Какая уж тут неприязнь?
Лиза, при словесном одобрении её нового достижения, заявляет мастеру:
– Если повесите идиотский плакат о моём успехе, ничего делать больше не стану.
– А если… билет в оперный? – спрашивает Виктор Петрович.
Какие-то секунды проходят в молчании, затем оба хохочут…
Наум Давыдович был не прав, что юмор чего-то стоит – юмор стоит очень многого! Именно потому Лиза и не огорчает больше Виктора Петровича.
В седьмом классе Лиза сидела за первой партой. Ноги её не доставали до пола. А в ремесленном за один год она обгоняет в росте почти всех девчат. Еды не хватает. В глазах – радужные круги. Подташнивает. Часто кружится голова…
Как-то ночью она идёт в туалет, где с высокого «пьедестала» грохается головою о цементный пол.
Оживает она в больнице. Слышно: соседки толкуют. Говорят, что у неё не всё в порядке с головой. А голова её (на ощупь) лысая; а в палате полный мрак. Лиза решает: если «не всё в порядке» – значит, она бредила стихами. У неё такое бывает. Но почему лысая? Но почему темно?!
Приходит доктор. По голосу она понимает, что он – старичок; спрашивает ласково:
– Как ты, голубушка?
Лиза интересуется:
– Почему ночью-то?
– Что – ночью? – не сразу понимает доктор.
– Почему ночью пришли?
Доктор медлит с ответом, а потом объясняет:
– Когда очнулась, тогда и пришёл.
– Свет-то зажгите, – просит Лиза.
Доктор уверяет:
– Нельзя, голубушка, – больные спят. Сестра тебе сейчас укольчик сделает. И ты уснёшь…
Снова Лиза оживает – снова темнота! Теперь уж потому, что глаза её забинтованы. Доктор рядом. Откашливается. Говорит:
– Так, Лизавета… Сотрясение у тебя. Сильное. Понимаешь? Зрение пострадало. Придётся повязочку потерпеть…
– И долго?
– Посмотрим, – вздыхает он, продолжая: – Ты – девочка взрослая. Поймёшь… Если зрение через недельку-другую не появится…
– Ослепну, что ли? – торопится узнать Лиза.
Но доктор продолжает говорить начатое:
– А появится – восстановится совсем. Надо потерпеть.
– Зачем остригли? – спрашивает Лиза, не желая продолжать страшный разговор.
– Поспешили… Думали – понадобится трепанация.
Потом добавляет:
– А что остригли – не сокрушайся. Волос – не нос, отрастёт.
Пошла третья неделя – ночь продолжается.
Голос доктора перемежается тяжкими вздохами соседок по палате…
А лысая голова в слепоте пустует. Ну и хрен с ней, с поэзией!
По поведению соседок Лиза понимает, что окна находятся против двери, что палата – на третьем этаже…
Вот сейчас – все уйдут в столовую; ей принесут обед попозже.
Наконец в палате наступает тишина; Лизины ноги оказываются на полу. Они уже ступают, крадутся. Доносят хозяйку до окна. Поднимают на подоконник… И руки сами делают своё дело. Им остаётся только дотянуться до последний, верхней задвижки…